Игрушечные люди салтыков щедрин
Микропересказ : Рассказчик познакомился с мастером, механические куклы которого разыгрывали отвратительные и порочные спектакли. Рассказчик, шокированный увиденным, был рад, что люди не всегда похожи на этих кукол.
Содержание
Названия глав — условные.
Прекрасный горд Любезнов [ ред. ]
В 184* году рассказчик служил в одной из северных губерний России, частенько наведываясь в близлежащий городок Любезнов, чтобы развеяться и посетить друга, штабс-капитана Вальяжного, который служил там городничим.
Город был, с точки зрения губернатора, хорошим: жители исправно платили подать и трудились. В Любезнове процветали различные ремёсла.
Ходили слухи, что раньше город назывался Буянов, и жители его отличались крайней необузданностью. Но теперь о том времени напоминали только фамилии горожан: Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы. Исправили жителей городские главы, которые сумели внушить людям, что человек рождён трудиться, слушаться начальства и лить слёзы. Вместо сопротивления властям горожане стали заниматься ремёслами, а однажды, собравшись на вече, массово покаялись и попросили переименовать город в Любезнов.
Однажды рассказчик приехал в гости к Вальяжному и услышал, как тот отчитывал местного жителя по фамилии Изуверов за то, что тот не желал исполнять супружеский долг.
Жалоба поступила от жены гражданина. Так как он продолжал отказываться, Вальяжный приказал запереть Изуверова в холодную камеру на ночь.
Кукольный мастер Изуверов [ ред. ]
Рассказчик, Вальяжный и присоединившийся к ним судья спорили, есть ли закон, обязывающий мужа исполнять супружеский долг перед женой. В итоге найти такой закон приказали письмоводителю.
В разговорах выяснилось, что Изуверов — талантливый мастер, который делал хитрые игрушечные механизмы. До сорока лет он жил с матерью, всецело отдавшись своей профессии, но после смерти матери женился, так как некому было еды сготовить и одежду починить. Впрочем, молодая жена не слишком интересовалась хозяйством, а вот выполнения супружеского долга требовала неуклонно, из-за чего в семье начались неурядицы.
Наутро выяснилось, что закона, обязывающего мужа выполнять супружеский долг, не существует. И наказать Изуверова тоже было нельзя, потому что образованные мещане от такой обязанности освобождены. Изуверова сейчас же выпустили, а жене сказали, что закона нет.
После этой истории рассказчик заинтересовался ремеслом Изуверова и отправился к нему домой. Домик был аккуратный, как и все дома в Любезнове, но внутри рассказчику почему-то стало грустно. Немые куклы глядели пустыми глазами, и жалко было мастера, который вынужден был целыми днями находиться в их обществе. На вопрос, не скучно ли ему живётся, Изуверов ответил, что ни скуки, ни веселья в городке нет, одна тишина.
Потом поговорили о кукольном деле. Изуверов сказал, что на свете много людей, и все разные, поэтому и кукол разных можно сделать сколько угодно. В пример он привёл соседку, жену часового мастера, которая как раз проходила мимо окон, и обратил внимание на её уникальность. Разве можно сделать куклу, просто нарисовав глаза и рот? Необходимо сначала понять её суть.
Изуверов показал богато убранную куклу-невесту, которую ему прислали из Петербурга, и сказал, что она пустая, хоть и стоит дорого. Рассказчик присмотрелся и согласился с мастером. Изуверов рассказал, что создаёт обычных кукол в целях заработка, но делает и особенных, уникальных.
Мастер признался, что ему бывает жутковато среди своих творений. С другой стороны, они сошлись с рассказчиком во мнении, что и среди живых людей немало кукол.
Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам!
Так что Изуверов выбрал общество деревянных кукол, которых всегда можно уложить в коробку и заставить умолкнуть.
Кукла «Мздоимец» [ ред. ]
Мастер показал рассказчику нескольких кукол. Все они были в мундирах коллежских асессоров. Первая, с блестящими блудливыми глазами, пухлыми губами и румяными щёчками звалась «Мздоимец». Кукла любила взятки и на самом деле имела более высокий чин, но мастер ради цензуры нарядил её в мундир асессора, как и всех остальных. На вопросы о том, любит ли она мзду, кукла отвечала утвердительно, а когда ей грозили судом или тем, что «кондрашка хватит», выражала недовольство.
Изуверов вынул из коробки куклу-мужика, бородатого и седого, на вид зажиточного, с курами, гусями и поросятами за пазухой. Мужичок тут же полез на коленях просить прощения у асессора, а тот стал мужика теребить и грабить, сожрал живьём гуся и отобрал другую живность. Потом указал на лапти, и мужик достал оттуда деньги и отдал взяточнику. Довольный и обобранный мужик отправился обратно в коробку с чистой совестью. Как пояснил Изуверов, эта кукла служила лишь для демонстрации сущности других кукол во всей полноте.
Изуверов предложил рассказчику поговорить с куклой-взяточником. Но та не смогла ответить на простые вопросы о значении слова «правда» и о том, боится ли она Бога, так как разговор на добродетельные темы не входил в её функции. Изуверов отметил, что и живые куклы редко могут поддержать разговор на такие темы, а рассказчик сказал, что живые могут лицемерить, и это делает их ещё хуже деревянных. Идея научить кукол говорить на любые темы с помощью лицемерия понравилась мастеру, и он решил попробовать применить её на практике.
Кукла «Лакомка» [ ред. ]
Следующая кукла была «Лакомка». В своём кабинете она принимала женщин и служила попечителем по благотворительности. Но попечитель не стремился помочь старушкам, его интересовали только молодые женщины, чьи ходатайства он удовлетворял лишь на особых условиях. Результатом его работы была толпа разгневанных женщин с младенцами на руках.
Куклы «Наказанный Гордец» и «Нерассудительный Выдумщик» [ ред. ]
Следующее представление называлось «Наказанный Гордец». Очередной коллежский асессор мчался на телеге, колошматя ямщика, чтобы тот побыстрее гнал лошадей. Когда пришло время менять упряжь, он оторвал ямщику голову. Но на почтовом дворе, где меняли лошадей, не было ни души. Гордец нашёл писаря и ямщиков и в ярости всех убил. Менять лошадей было некому; на запах крови пришли волки. Гордец заплакал, и волки его растерзали.
Ещё один асессор по имени «Нерассудительный Выдумщик» решил, что его судьба — бороться с невежеством. Он без конца выпускал бессмысленные распоряжения, от которых людям жилось всё хуже и хуже, и не собирался прекращать. На этом показ кукол кончился.
Реакция рассказчика на изделия Изуверова [ ред. ]
После просмотра рассказчик почувствовал нравственную усталость и опустошение. Он решил, что всё-таки живые куклы лучше деревянных. Причина тому — разнообразие людей, их инстинкты и участие во всеобщей жизненной драме. В жизни действия всех персонажей словно уравновешивают друг друга, а деревянные куклы имеют только одну струну, по которой и бьют раз за разом.
Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью?
За основу пересказа взято издание сказки из собрания сочинений Салтыкова-Щедрина в 20 томах (М.: Худож. лит., 1974).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Игрушечного дела людишки
В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб‑офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.
В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько‑таки езжал, во‑первых, потому что праздного времени было пропасть, а во‑вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс‑капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая‑нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».
Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» – подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них – непьющие; городничие – такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином – и сами говорят: «Баста!», городские головы – такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели‑трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.
К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» – восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал‑майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный – целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому‑де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!
Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы – одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным – кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.
Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого‑нибудь Идолова, которого предок когда‑то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.
К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй – скорпионы, третий – согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во‑первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во‑вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в‑третьих, – лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile, и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие‑то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена‑соревнователя.
И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, – случилось нечто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…
Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?
Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько‑таки туда езжали, во‑первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во‑вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.
Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб‑офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.
В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько‑таки езжал, во‑первых, потому что праздного времени было пропасть, а во‑вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс‑капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая‑нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».
Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» – подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них – непьющие; городничие – такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином – и сами говорят: «Баста!», городские головы – такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели‑трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.
К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» – восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал‑майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный – целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому‑де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!
Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы – одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным – кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.
Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого‑нибудь Идолова, которого предок когда‑то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.
К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй – скорпионы, третий – согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во‑первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во‑вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в‑третьих, – лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile, и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие‑то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена‑соревнователя.
И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, – случилось нечто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…
Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?
Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько‑таки туда езжали, во‑первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во‑вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.
Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что‑то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного – заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.
– Степан Степаныч! голубчик! – воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина,– а мы‑то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!
– Да… вот…– сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: – Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы… В бостончик? – обратился он ко мне.
– Отлично. Милости просим! А я – вот только кончу!
И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.
– Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.
– И баба‑то какая… Давеча пришла… печь печью! Да с этакой бабой… конца‑краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах! Но подсудимый продолжал молчать.
– Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своея. . .» – хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: – Ах‑ах‑ах!
Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое‑то бесконечно тоскливое выражение.
– Говори! что ж ты не говоришь?
– Что же я, вашескородие, скажу?
– Будешь ли «жить» с женой как следует… как закон велит? Говори! Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.
– Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать… увольте меня, вашескородие!
– А коли так – марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать – так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!
И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:
– Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!
До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем – тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть, где‑нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где‑нибудь да должно быть: «Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена свово положения от мужа получать не будет». Даже подоспевший к бостону судья – и тот сказал, что нужно где‑нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там‑то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в
Микропересказ : Рассказчик пришёл в гости к городничему и застал его бранящим местного жителя, мастера по изготовлению кукол, за неисполнение супружеского долга. Рассказчик посмотрел на будто живых кукол и приуныл.
Названия глав — условные.
Прекрасный горд Любезнов
В 184* году рассказчик служил в одной из северных губерний России, частенько наведываясь в близлежащий городок Любезнов, чтобы развеяться и посетить друга, штабс-капитана Вальяжного, который служил там городничим.
🧑🏻 Рассказчик — состоит на службе, имеет много свободного времени, имя в сказке не упоминается.
👱🏻♂️ Степан Степанович Вальяжный — городничий города Любезнов, друг главного героя.
Город был, с точки зрения губернатора, хорошим: жители исправно платили подать и трудились. В Любезнове процветали различные ремёсла.
Ходили слухи, что раньше город назывался Буянов, и жители его отличались крайней необузданностью. Но теперь о том времени напоминали только фамилии горожан: Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы. Исправили жителей городские главы, которые сумели внушить людям, что человек рождён трудиться, слушаться начальства и лить слёзы. Вместо сопротивления властям горожане стали заниматься ремёслами, а однажды, собравшись на вече, массово покаялись и попросили переименовать город в Любезнов.
Однажды рассказчик приехал в гости к Вальяжному и услышал, как тот отчитывал местного жителя по фамилии Изуверов за то, что тот не желал исполнять супружеский долг.
👴🏻 Никанор Сергеев Изуверов — мещанин, кукольный мастер, тщедушный, пожилой, бледный и измученный.
Жалоба поступила от жены гражданина. Так как он продолжал отказываться, Вальяжный приказал запереть Изуверова в холодную камеру на ночь.
Кукольный мастер Изуверов
Рассказчик, Вальяжный и присоединившийся к ним судья спорили, есть ли закон, обязывающий мужа исполнять супружеский долг перед женой. В итоге найти такой закон приказали письмоводителю.
В разговорах выяснилось, что Изуверов — талантливый мастер, который делал хитрые игрушечные механизмы. До сорока лет он жил с матерью, всецело отдавшись своей профессии, но после смерти матери женился, так как некому было еды сготовить и одежду починить. Впрочем, молодая жена не слишком интересовалась хозяйством, а вот выполнения супружеского долга требовала неуклонно, из-за чего в семье начались неурядицы.
Наутро выяснилось, что закона, обязывающего мужа выполнять супружеский долг, не существует. И наказать Изуверова тоже было нельзя, потому что образованные мещане от такой обязанности освобождены. Изуверова сейчас же выпустили, а жене сказали, что закона нет.
После этой истории рассказчик заинтересовался ремеслом Изуверова и отправился к нему домой. Домик был аккуратный, как и все дома в Любезнове, но внутри рассказчику почему-то стало грустно. Немые куклы глядели пустыми глазами, и жалко было мастера, который вынужден был целыми днями находиться в их обществе. На вопрос, не скучно ли ему живётся, Изуверов ответил, что ни скуки, ни веселья в городке нет, одна тишина.
Потом поговорили о кукольном деле. Изуверов сказал, что на свете много людей, и все разные, поэтому и кукол разных можно сделать сколько угодно. В пример он привёл соседку, жену часового мастера, которая как раз проходила мимо окон, и обратил внимание на её уникальность. Разве можно сделать куклу, просто нарисовав глаза и рот? Необходимо сначала понять её суть.
Изуверов показал богато убранную куклу-невесту, которую ему прислали из Петербурга, и сказал, что она пустая, хоть и стоит дорого. Рассказчик присмотрелся и согласился с мастером. Изуверов рассказал, что создаёт обычных кукол в целях заработка, но делает и особенных, уникальных.
Мастер признался, что ему бывает жутковато среди своих творений. С другой стороны, они сошлись с рассказчиком во мнении, что и среди живых людей немало кукол.
Так что Изуверов выбрал общество деревянных кукол, которых всегда можно уложить в коробку и заставить умолкнуть.
Кукла «Мздоимец»
Мастер показал рассказчику нескольких кукол. Все они были в мундирах коллежских асессоров. Первая, с блестящими блудливыми глазами, пухлыми губами и румяными щёчками звалась «Мздоимец». Кукла любила взятки и на самом деле имела более высокий чин, но мастер ради цензуры нарядил её в мундир асессора, как и всех остальных. На вопросы о том, любит ли она мзду, кукла отвечала утвердительно, а когда ей грозили судом или тем, что «кондрашка хватит», выражала недовольство.
Изуверов вынул из коробки куклу-мужика, бородатого и седого, на вид зажиточного, с курами, гусями и поросятами за пазухой. Мужичок тут же полез на коленях просить прощения у асессора, а тот стал мужика теребить и грабить, сожрал живьём гуся и отобрал другую живность. Потом указал на лапти, и мужик достал оттуда деньги и отдал взяточнику. Довольный и обобранный мужик отправился обратно в коробку с чистой совестью. Как пояснил Изуверов, эта кукла служила лишь для демонстрации сущности других кукол во всей полноте.
Изуверов предложил рассказчику поговорить с куклой-взяточником. Но та не смогла ответить на простые вопросы о значении слова «правда» и о том, боится ли она Бога, так как разговор на добродетельные темы не входил в её функции. Изуверов отметил, что и живые куклы редко могут поддержать разговор на такие темы, а рассказчик сказал, что живые могут лицемерить, и это делает их ещё хуже деревянных. Идея научить кукол говорить на любые темы с помощью лицемерия понравилась мастеру, и он решил попробовать применить её на практике.
Кукла «Лакомка»
Следующая кукла была «Лакомка». В своём кабинете она принимала женщин и служила попечителем по благотворительности. Но попечитель не стремился помочь старушкам, его интересовали только молодые женщины, чьи ходатайства он удовлетворял лишь на особых условиях. Результатом его работы была толпа разгневанных женщин с младенцами на руках.
Куклы «Наказанный Гордец» и «Нерассудительный Выдумщик»
Следующее представление называлось «Наказанный Гордец». Очередной коллежский асессор мчался на телеге, колошматя ямщика, чтобы тот побыстрее гнал лошадей. Когда пришло время менять упряжь, он оторвал ямщику голову. Но на почтовом дворе, где меняли лошадей, не было ни души. Гордец нашёл писаря и ямщиков и в ярости всех убил. Менять лошадей было некому; на запах крови пришли волки. Гордец заплакал, и волки его растерзали.
Ещё один асессор по имени «Нерассудительный Выдумщик» решил, что его судьба — бороться с невежеством. Он без конца выпускал бессмысленные распоряжения, от которых людям жилось всё хуже и хуже, и не собирался прекращать. На этом показ кукол кончился.
Реакция рассказчика на изделия Изуверова
После просмотра рассказчик почувствовал нравственную усталость и опустошение. Он решил, что всё-таки живые куклы лучше деревянных. Причина тому — разнообразие людей, их инстинкты и участие во всеобщей жизненной драме. В жизни действия всех персонажей словно уравновешивают друг друга, а деревянные куклы имеют только одну струну, по которой и бьют раз за разом.
Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью?
Пересказала Мария Луговая. За основу пересказа взято рассказа из собрания сочинений в 20 томах (М.: Худож. лит., 1974). Нашли ошибку? Пожалуйста, отредактируйте этот пересказ в Народном Брифли.
Понравился ли пересказ?
Ваши оценки помогают понять, какие пересказы написаны хорошо, а какие надо улучшить. Пожалуйста, оцените пересказ:
Что скажете о пересказе?
Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.
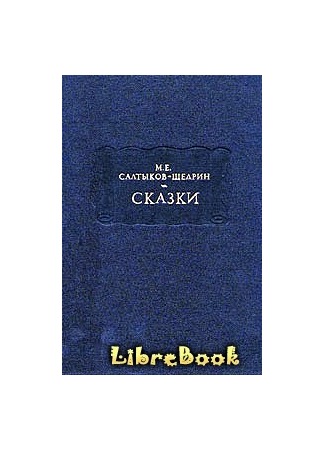
«История одного города» - сатирическая повесть Михаила Салтыкова-Щедрина повествует об истории города Глупова и его градоначальников в период восемнадцатого-девятнадцатого веков. Начинается повесть со слов автора, представляющегося исключительно издателем, который якобы нашёл настоящую летопись с рассказом о вымышленном городе Глупове. После небольшого вступления от лица вымышленного летописца идёт рассказ о «корни происхождения глуповцев», в котором автор даёт первые зарисовки сатиры на исторические факты. Но собственно основная часть повествует о самых выдающихся градоначальниках города Глупова. За этот период в городе сменился двадцать один правитель, если не считать периода смутного времени,…
«Пошехонская старина» – последнее произведение великого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.
М.Е.Салтыкова-Щедрина заслуженно относят к писателям-сатирикам мировой величины. Но при этом зачастую его произведения толкуют лишь как сатиру на государственное устройство и порядки самодержавной России.В этой книге сделана попытка представить читателям другого Салтыкова – мастера, наделенного редчайшим художественным даром, даром видеть комическую подоснову жизни. Видеть, в противоположность классическому гоголевскому пожеланию, сквозь видимые миру слезы невидимый миру смех.
По меткому замечанию Николая гоголя: «Сказка – дело, доступное только мудрецу». Несмотря на кажущуюся простоту – это один из самых сложных жанров для писателей. Уж слишком заметными становятся фальши, или нарочитость, или огрехи стиля, или самолюбования. И такие «или» можно перечислять бесконечно. Трудно соперничать с глубинным народным творчеством. Салтыкову-Щедрину это удавалось. Да он и сам считал свои сказки итогом и вершиной своего творчества. Гротескно-сатирические, карикатурно-едкие, они остаются злободневными для российской действительности и в наши дни. «А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?» - пела героиня одной детской сказки. А более ста лет до этой песенки два генерала действительно…
В сказке «Премудрый пескарь» отражена сатира на русское мещанство. Но в своем сатирическом осмеянии Салтыков-Щедрин выходит за рамки этой темы. Здесь проявляется общее свойство обывательского быта — лень, невежество, трусость, страх перед движением вперед. Это заставляет пескаря всю жизнь жить и дрожать, бояться за свою никому не нужную жизнь. Ради чего? Это вполне естественный вопрос, ответ на который с ужасом пытается найти пескарь к концу жизни.
Читайте также:


